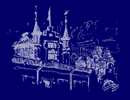Предисловие
2
Целые дни не расставался я с рукописью этих переводов, читал их в железнодорожных поездах, на империале омнибусов и в ресторанах, и часто мне приходилось закрывать тетрадь, чтобы не дать заметить посторонним, до какой степени я расстроган чтением. Эти лирические стихотворения, которые в подлиннике, – по словам моих индусов, – полны утонченного ритма, непереводимо изысканных оттенков красок, метрической новизны, раскрывают в мыслях своих тот мир, о котором я мечтал всю свою жизнь. Создание наивысшей культуры, они, однако, представляются таким же произрастанием самой обыкновенной почвы, как трава и камыш. Традиция, в которой поэзия и религия составляют одно, прошла через века, собирая у ученых и неученых метафоры и чувства, и отнесла обратно толпе мысли человека науки и аристократа. Если в цивилизации Бенгалии не произойдет перерыва, если этот общий дух, которым – как можно догадаться – проникнуты все, не раздробится, как это случилось у нас, на дюжины умов, ничего не знающих друг о друге, – некоторая доля самого неуловимого в этих стихах через несколько поколениий дойдет до нищего, скитающегося по дорогам. Пока в Англии был один общий ум, Чосер написал Троила и Крессиду, и, хотя он писал для того, чтобы его читали или декламировали – ибо наш век быстро приближался – его некоторое время пели менестрели. Рабиндранат Тагор, подобно предшественникам Чосера, пишет музыку для своих слов, и нам во всякую минуту понятно одно: весь он так могуч, так непосредственно глубок, так дерзновенен в своей страсти, так полон неожиданностей, между тем как он делает дело, которое никогда не казалось странным, неестественным или нуждающимся в защите. Эти стихи не будут лежать в нарядно напечатанных маленьких книжках на дамских столиках, и дамы не будут ленивыми ручками перелистывать их страницы, чтобы вздыхать над жизнью без смысла, - к чему сводится все, что они могут знать о жизни, - как не будут носить их с собой студенты в университет, чтоб отложить их в сторону, когда начнется работа жизни - но из поколения в поколение их будут напевать путешественники на большой дороге и гребцы на реке. Нашептывая их, влюбленные, ожидающие друг друга, обретут в этой любви к Богу волшебную бездну, в которой их собственная горькая страсть может омыться и обновить свою юность. В каждое мгновение сердце этого поэта устремляется к ним без уничижения и снисходительности, ибо оно постигло, что они поймут; и оно само прониклось их жизнью. Путник в краснобурой одежде, которую он носит, чтоб не была заметна на нем пыль, девушка, ищущая на своем ложе цветочных лепестков, упавших из венка ее царственного возлюбленного, слуга или невеста, ожидающие в пустом доме возвращения господина, все это образы сердца, обращенного к Богу. Цветы и реки, музыка морских раковин, тяжелый дождь индийского июля или палящий зной, все это – образы различных настроений этого сердца в слиянии или в разлуке; а человек, сидящий в лодке и играющий на лютне, – подобно какой-нибудь, полной таинственного значения фигуре на китайской картине, это Сам Бог. Целый народ, целая цивилизация, неизмеримо чуждая нам, была, по-видимому, воспринята этим воображением; и все же нас трогают не особенности ее, а то, что мы встретили свой собственный образ, как если бы мы бродили по ивовому лесу Россетти, или, впервые, быть может, в литературе, услышали свой собственный голос, как во сне. Со времени Возрождения писания европейских святых – как ни привычны нам их метафоры и общий строй их мысли – перестали приковывать наше внимание. Мы знали, что в конце концов мы должны отречься от этого мира, и в минуту утомления или экзальтации привыкли думать о добровольном уходе из него; но можем ли мы порвать с этим миром резко и грубо, мы, читавшие столько стихов, видавшие столько картин, слышавшие столько музыки, где крик плоти и крик души как бы сливаются воедино? Что у нас общего со Св. Бернардом, прикрывающим свои глаза, чтоб они не останавливались на красоте швейцарских озер, или со стремительной риторикой Книги Откровения? Мы хотели бы, если бы могли, найти, как в стихах Тагора, полные мягкости слова: – "Я получил свой отпуск. Проститесь со мной братья! Я всем вам делаю поклон и ухожу. Вот я возвращаю ключи от своей двери – и я отказываюсь от всяких прав на свой дом. Я только прошу у вас прощальных ласковых слов. Мы долго были соседями, но я больше получил, чем мог дать. Теперь день занялся, и лампа, освещавшая мой темный угол, догорела. Пришла весть, и я готов тронуться в путь". – Ведь это наше собственное настроение, бесконечно далекое от Фомы Кемпийского и Хуана де ла Крус (Прим. пер. – Друг Св. Терезы, преобразователь ордена босоногих кармелитов, оставивший много сочинений аскетического характера.) – восклицает: – "И любя эту жизнь, я знаю, что так же сильно полюблю и смерть". – Однако, не в одних наших мыслях о разлуке эта книга объемлет все. Мы не знали, что любим Бога, - вряд ли даже верили в него; но оглядываясь на свою жизнь, в нашем исследовании лесных тропинок, в нашем наслаждении уединенными холмами, в нашем таинственном, но тщетном тяготении к женщине, которую мы любили, мы открываем чувство, влекущее эту коварную сладость. – "Войдя в мое сердце незванный, как один из тысяч, неведомый мне, царь мой, ты наложил отпечаток вечности на многие мимолетные мгновения". – Это уже не святость кельи и самобичевания; это восхождение на более высокую напряженность душевного строя художника, живописующего прах земной и солнечный свет; и искать подобного голоса можно разве только у Св. Франциска и Вильяма Блейка, казавшихся столь чуждыми нашей бурной истории.